Здесь начинает Пристав свой рассказ
В Йоркшире есть болотистая местность
То Холдернес и вся его окрестность.
У сборщика была на откупу
Округа эта; он взимал крупу
С нее, муку, сыры, соленья
В награду за благое поученье.
Бывало, так он с кафедры вещал:
«Молю, чтобы никто не забывал,
Что без деяний дом господень пуст,
Что мертвым надобен сорокоуст
И надо поручать его монахам,
А не бездельникам попам, неряхам,
Которые то утреню проспят,
То не помянут, то не покадят,
И не заевшимся монастырям,
А братьям сборщикам по их трудам.
Сорокоуст избавит от мучений
Усопших души, коль без промедлений
Его служить, а не по мессе в день, [200]
Как делают попы, которым лень.
Ведь это же лгуны и тунеядцы!
Не стыдно им на мессах наживаться.
Освободите души из узилищ,
Пока они мучений не вкусили.
Ведь каково им там: пилой, клещами
И раскаленными сковородами
Там истязают и на углях жгут,
Они ж напрасно избавленья ждут.
Так поспешите, братья, их избавить
И щедрыми дарами в рай направить».
Когда же красноречье истощалось
И прихожан мошна опустошалась,
Сказав «аминь», он шел в другой приход,
Там обирать доверчивый народ.
И, рясу подоткнув, взяв сумку, посох,
Не разбирая, сыты или босы
Хозяева, стучался в каждый дом,
Выпрашивал обед, сыр, эль и ром.
Другой монах нес посох и таблички [201]
Слоновой кости; он имел привычку
Записывать дары и всех людей,
Что заслужили щедростью своей
Его молитвы. Восклицал он громко:
«О братия! Пуста еще котомка!
Пшеницы бушель, рис, зеленый лук,
Пирог, иль окорок, иль сыра круг -
Все примем мы, и по цене, по весу, -
За пенни – свечку и за шиллинг – мессу
Получите взамен. Драгие леди!
Коль нету под рукой монет иль снеди,
Мы примем шерсти куль или моток,
Иль полотно, иль вязаный платок.
Сестра драгая, вписываю имя,
Не умаляйтесь вы перед другими».
И на спине широкой, богатырской
Нес здоровенный служка монастырский
Пустой мешок и наполнял его
Добычею патрона своего.
И только что из двери выходили,
Как имена, начертанные стилем,
Монах проворно затирал ножом
И в следующий направлялся дом.
«Ложь, пристав, ложь!» – брат сборщик завопил.
Хозяин сборщика остановил:
«Спокойно, друг, ну что за восклицанья!
Не трусь, монах, не обращай вниманья».
«Так я и сделаю», – тот отвечал
И, не смущаясь, тут же продолжал:
«И бот пришел сей недостойный брат
В дом, где его радушней во сто крат,
Чем у других хозяев, привечали.
Но в этот раз хозяин был печален.
К одру болезни он прикован был.
«Hie Deus [202], – брат умильно возгласил. -
Друг Томас, мир тебе! Давно ль ты болен?
Уж так-то я всегда тобой доволен!
Всласть попили за этим мы столом!»
И с лавки он кота смахнул перстом,
Жезл положил, и шляпу, и мешок
И занял сам привычный уголок;
А спутников послал вперед он в город,
Чтоб продали там снеди полный короб
И заказали ужин и ночлег.
Больной лежал, не подымая век,
Но гостю все ж с почтеньем прошептал он,
Что, да простит отец, сидеть устал он,
Но рад его послушать и принять.
И начал сборщик, как всегда, вещать:
«Свидетель бог, о вашем я спасенье
Не оставляю, друг мой, попеченья.
Не счесть акафистов, молитв и свечек,
Которых я, как жертвенных овечек,
Принес за вас к святому алтарю.
A ex cathedra [203] как я говорю,
Я текстами ваш слух не утруждаю,
Их толкованием сопровождаю,
А толкование – тяжелый труд,
Слова иные прямо насмерть бьют.
И вот внушаю, чтобы не скупились
И чтоб даянья братии дарились.
Но где ж хозяйка? Что ее не видно?»
«Да во дворе замешкалася, видно.
Сейчас придет». И точно, появилась
В дверях хозяйка и чуть-чуть смутилась.
«Святой отец, да где ж вы пропадали?
Полгода, как вы нас не навещали».
Хозяйку, толстощекую, что репка,
Монах галантный тут же обнял крепко,
Поцеловал и, обращаясь к ней,
Защебетал, как юркий воробей:
«Сударыня, когда бы мог, поверьте,
Не покидал бы вас до самой смерти.
И где бы ни была моя нога,
Повсюду я покорный ваш слуга.
Я обошел по всей округе храмы,
Но не видал нигде прелестней дамы».
Она в ответ: «Ну что вы, нет, не надо!
А гостем вас всегда я видеть рада».
«О, grand merci! Я рад услышать это.
Во мне душа любовию согрета.
Но если будет ваше позволенье,
Я Томасу благое наставленье
Хотел бы преподать. Ведь духовенство
Приходское и всякое священство
Лениво очень; на свой риск и страх
Я поступаю в божиих делах.
Вещаю я Петра и Павла слово,
Ищу повсюду я себе улова.
Но и Христу идет с того процент,
Пред ним оправдываю свой патент».
«Да, да, отец, вы мужа побраните
И к благодушию его склоните.
Уж, кажется, хожу за ним, ей-ей,
А он колюч, что рыжий муравей.
Ночей не сплю и телом согреваю,
Ногой его иль грудью прикрываю,
Но уж такой угрюмый, видно, норов
У муженька, что хрюкнет, словно боров, -
Таков на все единственный ответ,
И никакой другой утехи нет».
«Ах, Томас! Je vous dis [204]. Ах, Томас, Томас!
То беса козни – не господень промысл.
Гнев господом строжайше запрещен.
Гневливый будет адом укрощен».
Хозяйка гостю: «Отче, мне скажите,
Что за обедом кушать вы хотите?»
«Мадам, – он отвечал, – лишь ломтик хлеба
(Неприхотлив я в пище, видит небо),
Да каплуна печенку и пупок,
Да жареной баранины кусок.
Но всякое убийство мне претит,
И вы испортите мне аппетит,
Коль для меня каплун заколот будет,
Пускай меня за алчность не осудят -
Не яства высшая моя награда:
Евангелье – души моей услада.
А плоть моя иссушена постом,
Молитвою и ревностным трудом,
И не варит желудок истощенный,
Вы не сердитесь, если я, смущенный
Заботой вашей, это говорю,
Лишь вас таким доверием дарю».
«А знаете ли, сэр, какое горе
Нас посетило. Сын мой умер вскоре
После того, как были вы у нас».
Брат отвечал: «Лишь только он угас
(Тогда в своей я находился келье),
Я ощутил духовное веселье
И видел, как душа его неслась
Во славе в рай, и слышал трубный глас.
И два тогда со мною бывших брата
(За милостыней им без провожатых,
Как знак доверья, с некоторых пор
Ходить повсюду разрешил приор [205]) -
Так вот, брат ризник и больничный брат
(Всегда я наставлениям их рад)
То знаменье увидели со мною.
И слезы покатилися, не скрою.
Мы слышали не погребальный звон
И не души усопшей скорбный стон, -
Был слышен звук чарующей свирели,
И мы «Те Deum» [206] хором все запели,
А я вознес создателю хвалу
И Вельзевулу возгласил хулу.
И верьте мне, почтенный сэр и леди,
Молитвы наши крепче ярой меди,
И тайн господних видим больше мы,
Чем люди светские, будь дети тьмы
Хоть королями, хоть временщиками.
Мы истончили плоть свою постами
И воздержаньем; а они живут
В богатстве, в праздности, и вина пьют,
И яства ненасытно поглощают -
Зато и откровения не знают.
Соблазны мира – для монаха тлен.
Богач и Лазарь сей юдоли плен
Несли по-разному, и воздаянье
Им было разное. Пусть воздержанье
Хранит монах, посты пусть соблюдает,
Пусть кормит душу, тело ж изнуряет.
Не надо нам богатого жилища.
Лишь вретище, ночлег, немного пищи -
Вот что потребно нам в скитаньях наших,
И в этом сила всех молитв монашьих.
На высоте Синайской Моисей
Постился строго долгих сорок дней.
С пустым желудком, выбившись из сил,
Молился он, и бог ему вручил
Скрижаль закона; а Илья-пророк
На высоте Хоребской изнемог,
Постясь пред тем, как говорить с всевышним.
Арон-первосвященник в платье пышном
Входил во храм, но с животом пустым.
Пред этим сам он да и все, кто с ним,
Служили богу, ничего не пили,
Чтоб разум им напитки не темнили,
Под страхом смерти трезвость соблюдали,
С пустым желудком богу предстояли.
Тому, кто сей запрет нарушит, – горе!
Он примет смерть, пребудет он в позоре.
Об этом хватит. Но везде в Писанье
Найдем примеры мы для подражанья.
Блаженны нищенствующие братья,
Для нас Христос раскрыл свои объятья.
Дал целомудрие взамен жены.
Мы с бедностию им обручены
И с милосердьем, щедростью, смиреньем,
Слезами и сердечным умиленьем
И воздержанием. Скажу я вам,
Что внемлет бог предстательству, мольбам
Смиренной братьи, не молитве вашей
Пред трапезой, с которой гонят взашей
Монаха нищего. Так ты и знай,
Через обжорство был потерян рай.
Там человек невинным пребывал,
Но, плод вкусив, блаженство потерял.
Еще одно тебе, мой друг, открою, -
Хотя и нету текста под рукою,
Но я на глоссу [207] некую сошлюсь,
Что наш господь, сладчайший Иисус,
Имел в виду, конечно, нас, смиренных,
Сказав, что духом нищие блаженны.
Так и везде в Писании. Суди же,
Кто к духу, да и к букве много ближе -
Мы или те, кто блага наживает
И в пышности, как в луже, погрязает?
Тьфу на их пышность и на их разврат!
Пускай в геенне все они сгорят.
Они, как видно, с Йовиньяном схожи,
Как он, брюхасты, наглы, краснорожи,
Жирны, что кит, и тяжелы, что гуси,
И налиты вином так, что боюсь я,
Не лопнули б, как тонкая бутыль,
Которую расперла снеди гниль.
Не благолепны, друг мой, их моленья,
Как загнусят Давида песнопенья.
И не они всевышнего прославят,
Как изрыгнут: «Cor meum eructavit» [208].
Равно как в древности, так и сегодня
Кто, кроме нас, идет путем господним?
Ведь мы, вершители господня слова,
Не только слушать – исполнять готовы.
Наш голос сладок для господня слуха,
Он нам внимает, верь мне, в оба уха.
Как сокол, что взмывает в облака,
Так и молитва наша высока,
Доходчива до божия престола.
Ах, Томас, Томас! Нашего глагола
Столь велика пред богом благодать,
Что не могу тебе и рассказать.
Молитвой нашей только и живешь ты,
Хотя того не ценишь даже в грош ты.
И день и ночь возносим мы моленья,
Чтоб дал тебе всевышний исцеленье
И каждым членом вновь ты мог владеть».
«Свидетель бог, старался я радеть
За эти годы целой своре братьев.
Что им скормил, того не смог содрать я
Со всех клиентов, разорился в пух.
Но легче на волос не стал недуг.
А денежки прощай. Они уплыли».
«Все потому, что неразумно были
Обращены. К чему сменять так часто
Молельщиков? С одним водись, и баста.
Не исцелит цирюльник иль аптекарь,
К чему они, коль лечит лучший лекарь?
Тебя непостоянство, Томас, губит.
Ну кто тебя, как мы, жалеет, любит?
Тебе ль молитвы нашей недостало?
Нет, дело в том, что ты даешь нам мало:
«Даруй в обитель эту порося;
В обитель ту пошли, жена, гуся;
Дай брату грош, пускай его не злится».
Нет, Томас, нет, куда это годится?
Разбей ты фартинг [209] на двенадцать долек -
Получишь даже и не ноль, а нолик.
Вещь в целом – сила, пусть под спудом скрыта,
Но силы нет, коль на куски разбита.
Я не хочу обманывать и льстить,
Молитву хочешь даром получить,
Но бог не раз вещал, вещал стократы,
Что труженик своей достоин платы.
Твоих сокровищ, Томас, не хочу я,
Но их охотно господу вручу я.
И братия помолится охотно,
Да обратится дар твой доброхотный
На церковь божью. Если хочешь знать,
Сколь велика в том деле благодать,
Я на угодника Фому [210] сошлюся,
Что строил храм для короля-индуса.
Ты вот лежишь, бесовской полон злобой,
Всецело занятый своей особой.
Жену свою, страдалицу, бранишь
И кроткую овечку жесточишь,
Поверь мне, Томас, бог тебя осудит,
Не ссорься с нею, много лучше будет,
Ведь пожалеешь сам ты наконец.
Об этом вот что говорит мудрец:
«Не будь ты дома аки лютый лев;
Не обращай на ближних ярый гнев,
Тебя в беде друзья да не покинут».
Страшись, о Томас! Мерзкую скотину
Ты выкормил в утробе: то змея,
Что средь цветов ползет, свой хвост вия,
И насмерть вдруг украдкою нас жалит.
Ее укус кого угодно свалит.
Ведь жизни тысячи людей лишились
Лишь оттого, что с женами бранились
Или с наложницами. Ты ж, мой друг,
Такой пленительной жены супруг,
Зачем с ней ссориться тебе напрасно?
Скажу тебе, что нет змеи ужасной,
Которая б опаснее была,
Чем женщины, когда ты их до зла
Доводишь сам придирками своими,
О мести мысль овладевает ими.
Гневливость – грех, один из тех семи,
Которые бушуют меж людьми
И губят тех, кто их не подавляет.
И каждый пастырь это твердо знает,
Любой из них тебе бы мог сказать,
Как гнев нас побуждает убивать.
Гнев – исполнитель дьявольских велений,
О гневе мог бы я нравоучений
До самого утра не прерывать.
Вот почему молю святую мать,
Да не вручит гневливцу царской власти.
Не может горшей быть для всех напасти,
Чем на престоле лютый властелин.
Вот в древности жил некогда один
Такой гневливец. Говорит Сенека, [211]
Гневливее не знал он человека.
Два рыцаря уехали при нем
Куда-то утром, а вернулся днем
Один из них, другой не появлялся
Довольно долго. И тотчас раздался
Владыки приговор над виноватым:
«Ты учинил недоброе над братом,
За то твой друг тебя сейчас казнит».
И третьему он рыцарю велит-
«Возьми его и умертви тотчас».
Но не пришлось казнить его в сей раз.
Уж к месту казни оба приближались,
Как с рыцарем пропавшим повстречались.
Тут ими овладел восторг великий.
Все возвратились к лютому владыке
И говорят «Тот рыцарь не убит,
Вот пред тобой он невредим стоит».
Владыка рек: «Умрете вы, скоты,
Все трое разом – ты, и ты, и ты».
И первому. «Раз ты приговорен,
Ты должен умереть». Второму он:
«Ты стал причиной смерти для другого».
«И ты умрешь. Ты ж не исполнил слова», -
Сказал он третьему и всех казнил
Камбиз гневливый выпивку любил,
Иной он не искал себе утехи,
Но не сносил ни от кого помехи.
Один придворный, из больших ханжей,
Его корил, чванливый дуралей:
«Владыке гибель на стезе порока.
И в пьянстве никогда не будет прока
Ни для кого, не токмо для царя.
Чего в глаза царям не говорят,
То во сто глаз за ними примечают,
Когда цари и не подозревают.
Вина поменьше пей ты, ради бога,
Ведь от него слабеют понемногу
И разум человека, и все члены».
«Наоборот, – сказал Камбиз надменный, -
Я это докажу тебе сейчас.
Вино не расслабляет рук иль глаз,
У разума не отнимает силы,
И в этом убедишься ты, мой милый».
Тут он еще сильней стал пить, чем прежде,
И вот что пьяному взбрело невежде:
Придворному велит, чтобы привел
Он сына своего, и тот пришел.
Тут лежа царь опер свой лук о брюхо,
А тетиву отвел назад, за ухо.
И наповал убил стрелой ребенка
«Ну как? С вином не вся ушла силенка,
И разум мой, и меткость рук и глаза?»
Ответ отца не завершит рассказа.
Был сын убит – так что ж тут отвечать?
А случай сей нам всем потребно знать,
И наипаче всех – придворной клике
«Ходить ты должен пред лицом владыки». [212]
Да и тебе таков же мой совет.
Когда бедняк, что в рубище одет,
В каком-нибудь грехе погряз глубоко,
Ты обличай его во всех пороках,
Царей же наставлять остерегись,
Хотя б в аду они потом спеклись.
Иль Кир еще, персидский царь гневливый,
За то, что утонул в реке бурливой
Любимый конь, когда на Вавилон
Царь шел войной, поток был отведен,
Река наказана, и все без броду
Виновную переходили воду.
Внемли словам владыки-остроумца:
«С гневливцем не ходи путем безумца,
Да не раскаешься». Что тут прибавить?
И лучше, Томас, гнев тебе оставить.
Слова мои, как половица, прямы,
Со мной не будь ты хоть теперь упрямым,
Бесовский нож от сердца отврати
И разум исповедью освяти».
«Ну нет. Зачем мне брату открываться?
Сподобился я утром причащаться
И перед богом душу облегчил.
Вновь исповедоваться нету сил».
«Тогда даруй на монастырь хоть злато.
Обитель наша очень небогата,
И, собираясь строить божий дом,
Одни ракушки ели мы сырьем,
Когда другие сласти уплетали, -
Мы стены храма купно воздвигали.
Но до сих пор стоят те стены голы,
И в кельях нет ни потолка, ни пола.
И я клянусь, ни чуточки не лгу, -
За камень мы досель еще в долгу.
Сними с нас тяжкие долгов вериги,
Не то за долг продать придется книги.
А нашего лишившись поученья,
Весь свет, глядишь, дойдет до разоренья.
Ну, если б нас, монахов, вдруг не стало?
Да лучше б тьма небесный свет объяла,
Чем вам хоть день прожить в грехе без нас.
Кто б стал молиться и страдать за вас?
И этот крест на нас лежит от века:
Напутствуем больного человека
Мы со времен пророка Илии. [213]
Так неужели деньги ты свои
В то милосердное не вложишь дело?»
И затряслось в рыданьях громких тело,
И на колени пал он пред кроватью,
Вымаливая денежки на братью.
Больной от ярости чуть не задохся,
Хотел бы он, чтоб брат в геенне спекся
За наглое притворство и нытье.
«Хочу тебе имущество свое
Оставить, брат мой. Я ведь брат, не так ли? [214]»
Монашьи губы тут совсем размякли.
«Брат, разумеется, – он говорит, -
Письмо с печатью братство вам дарит,
И я его супруге отдал вашей».
«Ах так? – сказал больной сквозь хрип и кашель
Хочу избавиться от вечной муки,
И дар мой тотчас же получишь в руки,
Но при одном-единственном условье,
В котором мне не надо прекословить
(И без того меня ты нынче мучишь):
Клянусь, что злато лишь тогда получишь,
Коль дар тобою будет донесен
И ни один из братьи обделен
Во всей обители тобой не будет».
«Клянусь, – вскричал монах, – и пусть осудит
Меня на казнь предвечный судия,
Коль клятвы этой не исполню я».
«Так вот, просунь же за спину мне руку
(Почто терплю я, боже, эту муку?),
Пониже шарь, там в сокровенном месте
Найдешь подарок с завещаньем вместе».
«Ну, все мое!» – возликовал монах
И бросился к постели впопыхах:
«Благословен и ныне ты и присно!»
Под ягодицы руку он протиснул
И получил в ладонь горячий вздох
(Мощнее дунуть, думаю, б не смог
Конь ломовой, надувшийся с надсады).
Опешил брат от злости и досады,
Потом вскочил, как разъяренный лев.
Не в силах скрыть его объявший гнев.
«Ах ты, обманщик! Олух ты! Мужлан!
Ты мне еще заплатишь за обман,
За все твои притворства, ахи, охи
И за такие, как сейчас вот, вздохи».
Подсматривали слуги при дверях
И, видя, как беснуется монах,
В опочивальню мигом прибежали,
С позором брата из дому прогнали.
И он пошел, весь скрюченный от злости,
В харчевню, где уже играли в кости
С подручным служка на вчерашний сбор.
Им не хотел он открывать позор,
И, весь взъерошась, словно дикобраз,
И зубы стиснув, все сильней ярясь
И распалившись лютой жаждой мести,
Шаги направил в ближнее поместье;
Хозяин был его духовный сын
И той деревни лорд и господин.
Сеньор достойный со своею свитой
Сидел за трапезой, когда сердитый
Ввалился брат и, яростью горя,
Пыхтел со злости, еле говоря.
Все ж наконец: «Спаси вас бог», – сказал он.
И никогда еще не представал он
Перед сеньором в облике таком.
«Всегда тебя приветствует мой дом, -
Сказал сеньор. – Я вижу, ты расстроен.
Что, иль разбойниками удостоен
Вниманием? Иль кем-нибудь обижен?
Садись же, отче. Вот сюда, поближе.
И, видит бог, тебе я помогу».
«Меня, монаха, божьего слугу,
Вассал твой оскорбил в деревне этой,
Безбожник он и грубиян отпетый.
Но что печалит более всего,
Чего не ждал я в жизни от него,
Седого дурня, это богомерзкой
Хулы на монастырь наш. Олух дерзкий
Осмелился обитель оскорблять».
«Учитель, ты нам должен рассказать…»
«Нет, не учитель, а служитель божий -
Хотя и степень получил я тоже
В духовной школе, не велит Писанье,
Всем гордецам и дурням в назиданье,
Чтоб званьем «рабби» нас вы называли, -
Будь то на торжище иль в пышном зале…»
«Ну, все равно, поведай нам обиду».
«Хотя я в суд с обидчиком не вниду,
Но, видит бог, такое поруганье
Монаха, a per consequens [215] и званья
Монашьего, и церкви всей преславной…
Я не видал тому обиды равной».
«Отец, надеюсь, исправимо дело.
Спокойней будь. Клянусь господним телом.
Ты соль земли, ты исповедник мой,
Так поделись же ты своей бедой».
И рассказал монах про все, что было,
И ничего от них в сердцах не скрыл он.
Не отвратив спокойного лица,
Хозяйка выслушала до конца
Его рассказ и молвила: «О боже!
Ты все сказал, монах? А дальше что же?»
«Об этом как вы мыслите, миледи?»
«А что ж мне думать? Он, должно быть, бредил.
Застлало голову ему туманом.
Мужлан он, так и вел себя мужланом.
Пусть бог его недуги исцелит
И прегрешения ему простит».
«Ну нет, сударыня, ему иначе
Я отплачу, и он еще заплачет.
Я никогда обиды не забуду,
Его ославлю богохульцем всюду,
Что мне дерзнул такое подарить,
Чего никто не сможет разделить,
Да еще поровну. Ах, плут прожженный!»
Сидел хозяин, в думу погруженный;
Он мысленно рассказ сей обсуждал:
«А ведь какой пронырливый нахал!
Какую задал брату он задачу!
То дьявольские козни, не иначе,
И в задометрии ответа нет, [216]
Как разделить возможно сей букет
Из звука, запаха и сотрясенья.
А он не глуп, сей олух, без сомненья».
«Нет, в самом деле, – продолжал он вслух, -
В том старике сидит нечистый дух.
Так поровну, ты говоришь? Забавно.
И подшутил он над тобою славно.
Ты в дураках. Ведь что и говорить,
Как вздох такой на части разделить,
Раз это только воздуха трясенье?
Раскатится и стихнет в отдаленье.
Pardi. [217] Еще напасти не бывало -
Послали черти умного вассала.
Вот исповедника он как провел!
Но будет думать! Сядемте за стол,
Пускай заботы пролетают мимо.
А олух тот – конечно, одержимый.
Пускай его проваливает в ад -
Сам Сатана ему там будет рад».
Следуют слова лордова оруженосца и кравчего о способе разделить вздох на двенадцать частей
А за спиной у лорда сквайр стоял,
Ему на блюде мясо разрезал
И вслушивался в эти разговоры.
«Милорд, – сказал он, – нелегко, без спору,
Вздох разделить, но если бы купил
Мне плащ монах, я б тотчас научил
Его, как вздох меж братьев разделить
И никого при том не пропустить».
«Ну говори. Плащ я тебе дарю.
Ах, плут! Я нетерпением горю
Скорей узнать, что ты, злодей, придумал, -
И возвратимся снова все к столу мы».
И начал сквайр: «В день, когда воздух тих,
Когда в нем нет течений никаких,
Принесть велите в этот самый зал
От воза колесо, – так он сказал, -
И колесо на стойках укрепите
И хорошенько вы уж присмотрите
(В таких делах заботливым хвала),
Чтоб ступица его с дырой была.
Двенадцать спиц у колеса бывает.
И пусть двенадцать братьев созывает
Монах. А почему? Узнать хотите ль?
Тринадцать братьев – полная обитель. [218]
А исповедник ваш свой долг исполнит -
Число тринадцать он собой дополнит.
Потом пускай без лишних промедлений
Под колесом все станут на колени,
И против каждого меж спиц просвета
Пусть будет нос монашеский при этом.
Брат исповедник – коновод игры -
Пусть держит нос насупротив дыры,
А тот мужлан, в чьем пузе ветр и грозы,
Пускай придет и сам иль под угрозой
(Чего не сделаешь, коль повелят?)
К дыре приставит оголенный зад
И вздох испустит, напружась ужасно.
И вам, милорд, теперь должно быть ясно,
Что звук и вонь, из зада устремясь
И поровну меж спиц распределясь,
Не обделят ни одного из братьи,
А сей монах, отец духовный знати, -
Не выделить такого брата грех, -
Получит вдесятеро против всех.
Такой обычай у монахов всюду:
Достойнейшему – первый доступ к блюду.
А он награду нынче заслужил,
Когда с амвона утром говорил.
Когда на то моя была бы воля,
Не только вздох, а вздоха три иль боле
Он первым бы у ступицы вкусил;
Никто б из братии не возразил -
Ведь проповедник лучший он и спорщик».
Сеньор, хозяйка, гости, но не сборщик
Сошлись на том, что Дженкин разрешил
Задачу и что плащ он заслужил.
Ведь ни Эвклид, ни даже Птолемей
Решить бы не смогли ее умней,
Ясней облечь ее в свои понятья.
Монах сидел, давясь, жуя проклятья.
Про старика ж был общий приговор,
Что очень ловкий брату дан отпор,
Что не дурак он и не одержимый.
И поднялся тут смех неудержимый.
Рассказ мой кончен, кланяюсь вам низко
Я за вниманье. Э, да город близко.
Здесь кончает свой рассказ Пристав церковного суда

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)



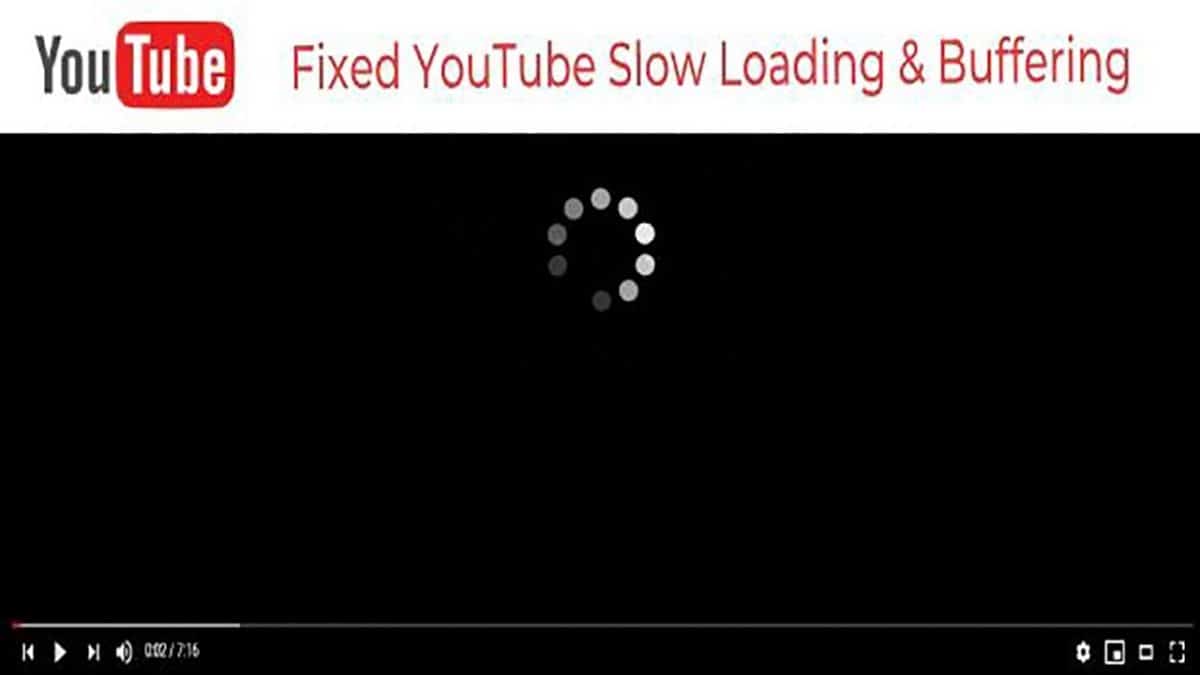

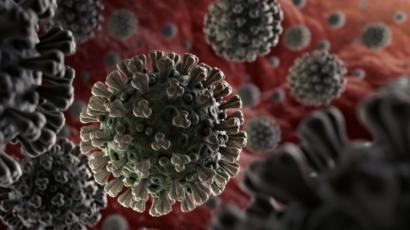



.jpg)



.jpg)