К сеням, где ласточка тихо щебечет,
Где учит балясин училище с четами нечет,
Где в сумраке ум рук – Господ кистей,
Смех – ай, ай! – лов наглых, назойливых ос,
Нет их полету костей,
Злее людских плоскостей
Рвут облака золотые
У морей ученических кос.
Жалобой палубы подняты грустные очи,
Кто прилетел тихокрылый?
Солнц
И кули с червонцами звезд наменять
На окрик знакомый:
*Я не одета, Витюша, не смотрите на меня!*
Ласточки две,
Как образ семьи, в красном куте,
Из соломы и глины
Вместо парчи
Свили лачугу:
Взамен серебра образу был
Этих ласточек брак.
Синие в синем муху за мухой ловили,
Ко всему равнодушны – и голосу Кути,
И рою серебряной пыли,
К тому, что вечерние гаснут лучи,
Ясная зайчиков алых чума
В зелени прежней, кладбище солнца, темнеет, пора!
Вечер и сони махали крылом, щебеча.
Вечер. За садом, за улицей, говор на *ча*:
*Чи чадо сюда прилетело?
Мало дитя?*
Пчелы телегу сплели!
Ласточки пели *цивить!*.
Черный взор нежен и смугол,
Синими крыльями красный закутан был угол.
Пчелы тебя завели.
Будет пора, и будет велик
Голос – моря переплыть
И зашатать морские полы –
Красной Поляны
Лесным гопаком,
О ком
Речи несутся от края до края,
Что брошено ими *уми*
Из умирая.
И эта весть дальше и больше,
Дальше и дальше,
Пальцами Польши,
Черных и белых народов
Уносит лады
В голубые ряды,
Народов, несущихся в праздничном шуме
Без проволочек и проволочек.
С сотнями стонными
Проволок ящик
(С черной зеркальной доской).
Кто чаровал
Нас, не читаемых в грезах,
А настоящих,
Бросая за чарами чары вал.
И старого крова очаг,
Где город – посмешище,
Свобода – седая помещица,
Где птицам щебечется,
Бросил, как знамя,
Где руны – весна Мы!
Узнайте во сне мир!
Поссорившись с буднями,
Без берега нив
Ржаницы с ржаницей,
Увидеться с студнями –
Их носит залив,
Качает прилив,
Где море рабочее вечером трудится –
Выбивает в камнях свое: восемь часов!
Разбудится! Солнце разбудится!
Заснуло, –
На то есть
Будильник
Семи голосов, веселого грома,
Веселого охота, воздушного иска.
Ограда, – на то есть
Напильник.
А ветер – доставит записку.
На поиск! На поиск! –
Пропавшего солнца.
Пропажа! Пропажа!
Пропавшего заживо.
В столбцах о краже
Оно такое:
Немного рыжее,
Немного ражее,
Теперь под стражею,
Веселое!
В солнцежорные дни
Мы не только читали,
Но и сами глотали
Блинами в сметане
И небесами другими,
Когда дни нарастали,
На масленой…
Это не в море, это не блин, –
Это же солнышко
Закатилось сквозь вас с слюной.
Вы здесь просто море,
А не масленичный гость.
Точно во время морского прибоя,
Дальняя пена – ваши усы.
Съел солнышко в масле и сыт.
Солнце щиплет дни
И нагуливает жир,
Нужно жар его жрецом жрать и жить,
Не худо, ежели около – кусочек белуги,
А ведь ловко едят в Костроме и Калуге.
Не смотри, что на небе солнце величественно,
Нет, это же просто поверье язычества.
Солнышко, радостей папынька!
Где оно нынче?
У черта заморского запонка?
Черт его спрятал в петлицу?
Выловим! Выловим!
Выудим! Выудим!
Кто же, ловкач,
Дерзко выломит удочку?
И вот девушка-умница, девушка-чудочко
Самой яркой звездой земного погона
Блеснула, как удочка
За солнцем
В погоню, в погоню!
Лесою блеснула.
И будут столетья глазеть,
Потомков века,
На вас, как червяка.
Солнышко, удись!
Милое, удись!
Не будь ослух
Моляны
Красной Поляны.
И перелетели материк Расеи вы
Вместе с Асеевым.
И два голубка
Дорогу вели крючку рыбака.
А сам рыбак –
Страдания столица –
В знакомо-синие оковы
Себя небрежно заковал,
Верней, другие заковали,
И печень смуглую клевали
Ему две важные орлицы,
И долгими ночами
Летели дальше, величавы.
А вдалеке, просты, легки,
Зовут мальчишки: *Голяки!*
Ведь Синь и Голь
В веках дружат,
И о нашествии Синголов
Они прелестно ворожат.
И речи врезалися в их головы,
В стакане черепа жужжат,
Здесь богатырь в овчине, похож на творца Петербурга,
И милые дивчины, и корчи падучей, летевшие зорко.
Придет пора,
И слухов конница
По мостовой ушей
Несясь, копытом будет цокать:
Вы где-то там,
В земле Владивостока.
И жемчуг около занозы
Безумьем запылавшей мысли,
Страдающей четко зари,
Двух раковин, небесной и земной –
Нитью выдуманных слез.
Вы там, где мощное дыхание кита!
Теперь из шкуры пестро-золотой,
Где яблок золотых гора,
Лесного дикого кота
Вы выставили локоть.
Друзья! И мальчики! Давайте этими вселенными
Играть преступно в альчики.
И парусами вдохновенными
Мы тронем аль чеки.
Согласны? Стало, будет кон,
Хотя б противился закон,
И вот решения итог:
Несите бабки и биток.
Когда же смерти баба-птица
Засунет мир в свой кожаный мешок,
Какая вдумчивая чтица
Пред смыслом строк отступится на шаг,
Прочтя нечаянные строки:
Осенняя синь и вы – в Владивостоке?
Где конь ночей отроги гор, –
Седой, – взамен травы ест
И наклонился низко мордой,
И в звездном блеске шумов очередь,
Ваш катится обратный выезд,
Чтобы Москву овладивосточить.
И жемчуг северной Печоры
Таили ясных глаз озера:
Снежной жемчужины – северный жемчуг.
И, выстрелом слов сквозь кольчугу молчания,
Мелькали великие реки,
И бегали пальцы дороги стучания
По черным и белым дощечкам ночей.
Вот Лена с глазами расстрела
Шарахалась волнами лени
В утесы суровых камней.
Утопленник плавал по ней
С опухшим и мертвым лицом.
А там, кольчугой пен дыша,
Сверкали волны Иртыша,
И воин в северной броне
Вставал из волн, ракушек полн,
Давал письмо для северной Онеги.
Широкие очи рогоз,
Коляска из синих стрекоз
Была вам в поездке Сибирью сколоченный воз.
И шумов далекого моря обоз,
Ударов о камни задумчивых волн,
Тянулся за вами, как скарб.
Россия была уж близка,
И честь отдавал вам сибирский мороз.
Хотели вы не расплескать
Свидания морей беседы говорливой
Серебряные капли,
Нечаянные речи
В ладонях донести, –
Росой летя на крыльях цапли, –
Ту синеву залива, что проволокой путей далече
Искала слуха шуму бурь
И взвизгов ласточек полету,
И судей отыскать для вкуса ласточек гнезда морского.
И в ухо всей страны Валдая, –
Где вечером Москва горит сережкой, –
Шепнуть проделки самурая,
Что море куксило, страдая,
Что в море плавают япошки;
И, подковав на синие подковы
Для дикой скачки,
Страну дороги Ермаковой,
Чтоб вывезть прошлое на тачке.
И сруб бревенчатый Сибири,
В ладу с былиной широкой
Дива стоокого,
Вас провожал
Не тряскою коляской
Из сонма множества синих стрекоз.
Шатер небес навесом был ночлега.
В широкой радуге морозных жал
Из синих мух, чьи крылья сверк морей,
Везла вас колымага,
Воздушная телега
Олега! Олега!
Любимца веков!
Чтоб разом
Был освещен неясный разум,
И топот победы Сибири синих подков,
И дерзкая другов ватага.
Умеем написать слова любые
На кладбище сосновой древесины.
Я верю, многие не струсят
Вдруг написать чернилами чернил
Русалку, божество,
И весь народ, гонимый стражей книг,
Перчаткой белой околоточных.
А вы чернилами вернил –
Верни! Верни! –
На полотне обычных будней
Умеете коряво начертать
Хотя бы *божество*,
В неловком вымолве увидеть каменную бабу
Страны умов,
Во взгляде – степь Донских холмов?
Не в тризне
Сосен и лесов,
Не на потомстве лесопилен
И не на кладбище сосновом бора, –
А в жизни, жизни,
На радуге веселья взора,
На волнах милых голосов
Скоро, споро,
Корявый почерк
Начертать
И, крикнув: *Ни черта!* –
В глаза взглянуть городового, –
Свисток в ушах, ведь пишется живое слово,
А с этим ссорится закон
И пятит свой суровый глаз в бока!
Начертана событий азбука:
Живые люди вместо белого листа.
Ночлег поцелуев, ресница,
Вместо широкого поля страницы
Для подписи дикой.
Давайте из знакомых
Устраивать зверинцы
Задумчивых божеств,
Чтобы решеткою – дела!
Рассыпав на соломах,
Заснувшие в истомах,
С стеклянным волосом тела.
Где *да* и *нет* играло в дурачки,
Где тупость спряталась в очки,
Чтоб в наших дней задумчивой рогоже
Сидели закутанные некто –
Для неба негожи,
На небо немного похожи,
И граждане речи
Стали граждане жизни.
Не в этом ли, о песнь, бег твой?
Как та дуброва оживлена,
Сама собой удивлена,
Сама собой восхищена,
Когда в ней плещется русалка!
И в тусклом звездном ситце,
Усталая носиться, –
Так оживляет храмы галка!
Бывало, я, угрюмый и злорадный,
Плескал, подкравшись, в корнях ольхи,
На книгу тела имя Ольги.
Речной волны писал глаголы я.
Она смеялась, неповадны
Ей лица сумрачной тоски,
И мыла в волнах тело голое.
Но лишь придет да-единица,
Исчезнет надпись меловой доски
И, как чума, след мокрой губки
Уносит все – мое хочу на душегубке,
И ропот быстрых вод
В поспешных волнах проворных строк,
Неясной мудрости урок, –
Ведь не затем ли,
Чтобы погоду и солнечный день обожествить
В книге полдня, сейчас
Ласточка пела *цивить!*?
В избе бревенчатой событий
Порой прорублено окно –
Стеклянных дел
Задумчивое но.
Бревенчатому срубу,
Прозрачнее окна,
Его прозрачные глаза
На тайный ход событий
Позволят посмотреть.
Когда сошлись Глаголь и Рцы
И мир качался на глаголе
Повешенной Перовской,
Тугими петлями войны,
Как маятник вороньих стай –
Однообразная верста:
Столетий падали дворцы,
Одни осталися Асеевы,
Вы Эр, покинули Расею вы,
И из России Эр ушло,
Как из набора лишний слог,
Как бурей вырвано весло…
И эта скобок тетива,
Раскрытою задачей,
От вывесок пив и пивца
Звала в Владивосток
Очей Очимира певца.
Охотники, удачи!
Друзья, исчислите,
Какое Мыслете,
Обещанное Эм,
Размолов, как жернов, время,
В муку для хлеба,
Его буханку принесут?
Мешочником упорным?
Но рушатся первые цепи
И люди сразились и крепи
Сурового Како!
Как? Как? Как?
Так много их:
Ка… Ка… Ка…
Идут, как новое двуногое,
Колчак, Корнилов и Каледин.
Берет могильный заступ беден,
Ему могилу быстро роет:
*Нас двое, смерть придет, утроит*.
Шагает Ка,
Из бревен наскоро
Сколоченное,
То пушечной челюстью ляская,
Волком в осаде,
Ступает широкой ногою слона
На скирды людей обмолоченные,
Свайной походкой по-своему
Шагает, шугая, шатается.
От живой шелухи
Поле было ступою.
Друзья моей дружины!
Вы любите белым медведям
Бросать комок тугой пружины.
Дрот, растаявши в желудке,
Упругой стрелой,
Как старый клич *долой*,
Проткнет его живот.
И *вззы* кричать победе,
Охотником по следу
Сегодня медведей, а завтра ярых людведей.
Людведи или хуже медведей?
Охоты нашей недостойны?
И свиста меткого кремневых стрел?
(Людведей и Синголов войны.)
С людведем на снегу барахтаясь,
Обычной жизни страх, таись!
Вперед! Вперед! Ватага!
Вперед! Вперед! Синголы!
Маячит час итога!
Порока и святого
Година встала
Ужасной незнакомкою,
Задачу с уравненьем комкая,
Чего не следует понять иначе.
Ошибок страшный лист у ней,
Ошибок полный лист у ней,
В нем только грубые ошибки
И ни одной улыбки.
Те строки не вели к концу
Желанной истины:
Знак равенства в знакомом уравненьи
Пропущен здесь, поставлен там.
И дулом самоубийцы железная задача
Вдруг повернулася к виску,
Но Красной Поляны
Был забытым лоскут?
И черепа костью жеманною
Година мотала навстречу желанному.
Случалось вам лежать в печи
Дровами
Для непришедших поколений?
Случалось так, чтоб ушлые и непришедшие века
Были листом для червяка?
Видали вы орлят,
Которым черви съели
Их жилы в крыльях, их белый снежный пух?
Их неуклюжие прыжки взамен полета?
Самые страшные вещи! Остальное – лопух!
Телят у горла месяц вещий?
Но не пришло к концу
Желанной истины в старинномсмысле уравненье,
Поклонникам *ура* быть не может не к лицу.
Прошел гостей суровый цуг,
Друзей могилы.
Сколько их? Восьмеро?
Карогого солнца лучи
Плывут в своей железной вере.
Против теченья страшный ход.
Вы очарованы в железный круг –
Метать чугунную икру.
Ход до смерти – суровый нерест
Упорных смерти женихов,
Войны упорных осетров,
Прибою поперек ветров,
То впереди толпы пехот –
Колчак, Корнилов и Каледин.
В волнах чугунного Амура,
Осоками столетий шевеля,
Вас вывел к выстрелам обеден,
Столетьям улыбаясь, Дуров.
Когда блистали шашки, неловки и ловки,
Богов суровых руки играли тихо в шашки,
Играли в поддавки.
Шатаясь бревнами из звука,
Шагала азбука войны.
На них, бывало, я
Сидел беспечным воробьем
И песни прежние чирикал,
Хоть смерти маятники тикали.
Вы гости сумрачных могил,
Вы говор струн на Ка,
Какому голоду оков,
Какому высушенному озеру
Были в неудачной игре козыри?
Зачем вы цугом шли в могилу?
Как крышка кипятка,
Как строгий пулемет,
Стучала вслед гробов доска,
Где птицей мозг летел на туловище слепой свободы.
Прошли в стране,
Как некогда Ругил,
Вы гости сумрачных могил!
И ровный мерный стук – удары в пальцы кукол.
То смерть кукушкою кукукала,
Перо рябое обнаружив,
За сосны спрятавшись событий,
В именах сумрачных вождей.
Кук! Ку-кук!
Об этом прежде знал Гнедов.
Пророча сколько жить годов,
Пророча сколько лет осталось.
Кукушка азбуки, в хвое имен закрыта,
Она печально куковала,
Душе имен доступна жалость.
Поры младенческой судьбы народов кукол
Мы в их телах не замечали.
Могилы край доскою стукал.
А иногда, сменяя Ка, насмешливо лилося *Люли*
Через окопы и за пули.
Там жили кололовы,
Теперь оковоловы.
Коса войны, чумы, меча ли
Косила колос сел,
И все же мы не замечали
Другие синие оковы,
Такие радостные всем.
Вы из земли хотели Ка,
Из грязи, из песка и глины,
Скрепить устои и законы,
Чтоб снова жили властелины.
А эта синяя доска,
А эти синие оковы
Грозили карою тому,
Кто не прочтет их звездных рун.
Она небесная глаголица,
Она судебников письмо,
Она законов синих свод,
И сладко думается и сладко волится
Тому, их клинопись прочесть кто смог.
Холмы, равнины, степи!
Вам нужны голубые цепи?
Вам нужны синие оковы?
Оне – в небесной вышине!
Умей читать их клинопись
В высоких небесах,
Пророк, бродяга, свинопас!
Калмык, татарин и русак!
Все это очень, очень скучно,
Все это глухо и не звучно.
Но здесь других столетий трубка,
И государств несется дым.
И первая конная рубка
Юных (гм! гм!) с седым.
Какая-то колода, быть может человечества,
Искала Ка, боялась Гэ!
И кол, вонзенный в голь,
Грозил побегам первых воль,
Немилых кололобым.
Но он висел, небесный кол,
Его никто не увидал,
И каждый отдавался злобам.
А между тем миры вращались
Кругом возвышенного Ка,
И эта звездная доска –
Синий злодей –
Гласила с отвагою светской:
Мы в детской
Рода людей.
Я кое-как проковыляю
Пору пустынную,
Пока не соберутся люди и светила
В общую гостиную.
О, Синяя! В небе, на котором
Три в семнадцатой степени звезд,
Где-то я был там полезным болтом.
Ваши семнадцать лет, какою звездочкой сверкали?
Воздушные висели трусики,
Весной земные хуже лица.
Огонь зеленый – ползет жужелица,
Зеленые поднявши усики,
Зеленой смертью старых кружев
Сквозняк к могилам обнаружив,
В зеленой зелени кроты
Ходы точили сквозь листы.
*Проворнее, кацап!
Отверженный, лови*.
Кап, кап, кап!
Падали вишни в кувшин,
Алые слезы садов.
Глаза, как два скворца в скворешнице,
На ветке деревянной верещали.
Она в одежде белой грешницы,
Скрывая тело окаянное,
Стоит в рубашке покаянной.
Она стоит, живая мученица,
Где только ползала гусеница,
Веревкой грубой опоясав
Как снег холодную сорочку,
Где ветки молят солнечного Спаса, –
Его прекрасные глаза, –
Чернил зимы не ставить точку.
Суровой нищенки покров.
А ласточка крикнет *цивить!*
И мчится и мчится веселью учиться!
Стояла надписью Саяна
В хребтах воздушной синевы,
Лилось из кос начало пьяное –
Земной, веселый, грешный хмель.
Над нею луч порой сверкал,
И свет божественный сиял,
И то-то крылья отрубал.
Сегодня в рот вспорхнет вареник,
В веселый рот людей – и вот
Вишневых полно блюдо денег,
Мушиный радуется сход,
Отметив скачкой час свобод.
Белее снега и мила,
Она воздушней слова *панны*,
Она милей, белей сметаны.
Блестя червонцами менял,
Летали косы, как ужи,
Среди взволнованных озер,
Где воздух дик и пышен.
*Раб! Иди и доложи,
Что госпожа набрала вишен.
И позови сюда ковер*.
Какой чахотки сельской грезы
Прошли сквозь очи, как стрела,
Когда, соседкою ствола,
Рукою темною рвала
С воздушных глаз малиновые слезы?
Я верю: разум мировой
Земного много шире мозга
И через невод человека и камней
Единою течет рекой,
Единою проходит Волгой.
И самые хитрые мысли ученых голов:
Граждане мысли полов и столов,
Их разум оболган.
Быть может, то был общий заговор
И дерева и тела.
Отвага глаза, ватага вер
И рядом – вишневая розга,
Терновник для образа несшая смело.
Но честно я отмечу – была ты хороша.
Быть может, в эти полчаса
Во мне и ей вселенская душа
Искала, отдыхая, шалаша,
И возле ног могучих, босых,
Устало свой склонила посох,
Искала отдыха, у темени
Ручей бежал земного времени.
В наборе вишен и листвы,
В полях воздушной синевы,
Где ветер сбросил пояса,
Глаза дрожали – черная роса.
Зеленый плеск и переплеск –
И в синий блеск весь мир исчез.
Весна 1922























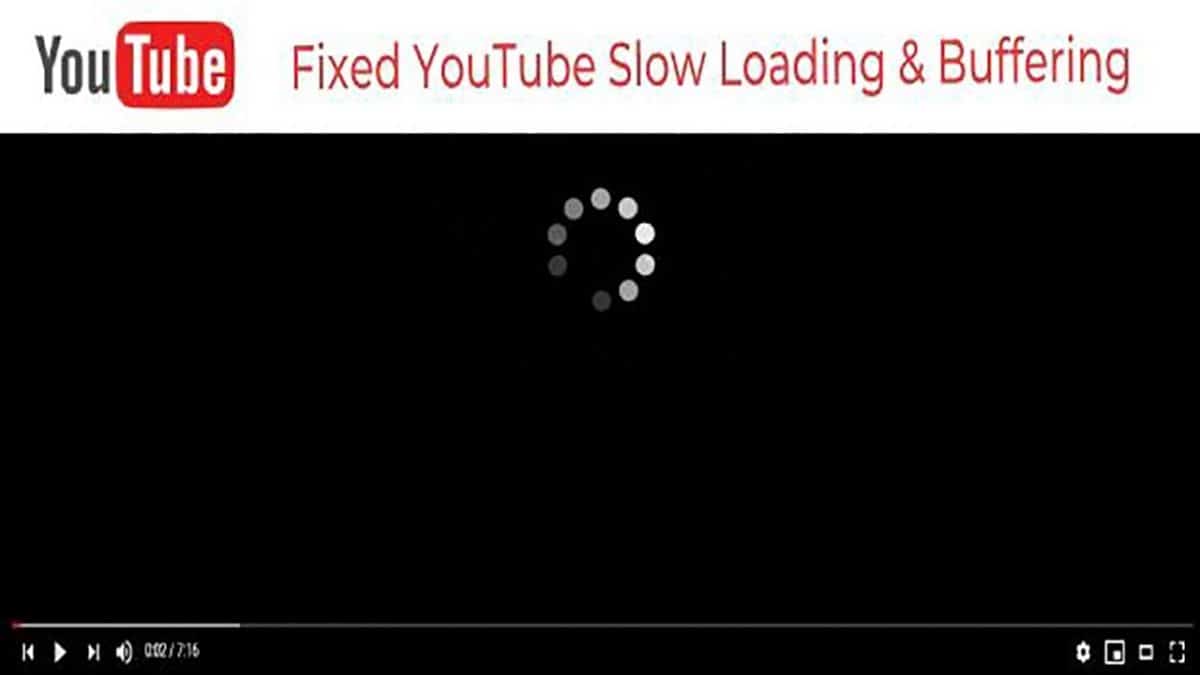


.jpg)







.jpg)